Филологические
науки/Теоретические и методологические проблемы исследования языка.
Чиканаев Жандос, магистр
2 курса, ГСФ
Самамбет М.К., к.ф.н.
доцент, научный руководитель
КГУ им. А. Байтурсынова,
Казахстан
Изобразительно-выразительные
средства языка реализации категории зла
в поэме Дж. Мильтона «Потерянный рай»
Поэма Дж. Мильтона «Потерянный рай» относится к
числу произведений, которые являются предметом изучения специалистов; для
широкой аудитории сама форма его и тем более слог не представляют большого
интереса. Такова позиция большинства критиков, в частности, Р. Самарина [1]. Однако при этом тот же Р.
Самарин отмечает, что А. В. Луначарский
высоко ценил художественные достоинства поэмы, характеризуя Дж. Мильтона
следующим образом: «он был
великий поэт. Он написал две поэмы, из которых одна особенно великолепна, это
«Потерянный рай» [1, 5]. В рамках формулировки темы данного
исследования ценность творчества поэта
может быть подтверждена анализом художественных и стилистических особенностей
текста поэмы. Художественный текст как объект анализа может быть изучен
с различных позиций, и вопросы его понимания и интерпретации являются ключевыми
в филологической науке. Современный подход литературоведов (Л. Г. Бабенко, А.
Б. Есина) выделяет такие виды анализа художественного текста как
филологический, лингвистический, стилистический, литературоведческий [2,3].
В контексте формулировки темы нас интересует
стилистический анализ художественного текста – рассмотрение его с точки зрения
лингвистических и экстралингвистических факторов стилеобразования как
проявления стилистического узуса и индивидуально-авторского стиля. Если обобщить весь комплекс существующих
средств придания стилистической индивидуальности художественной речи, то можно
разделить их на фонетические и лексические.
Например:
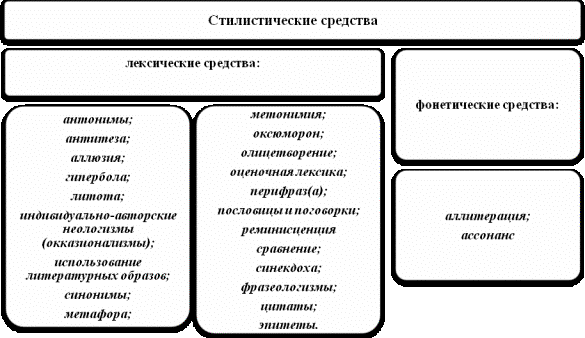
Сужая
границы объекта исследования, сосредоточим внимание на некоторых наиболее явных
лексических средствах, использованных Дж. Мильтоном в поэме «Потерянный рай».
Общая стилевая характеристика произведения характеризуется комплексом ярких особенностей образного языка
поэмы: богатство красок, многообразие метафор, частота обращений к известным
библейским и литературным сюжетам, их творческая интерпретация и трансформация. Идиостиль поэта
характеризуется обилием изобразительно-выразительных средств, спецификой
использования тропов[4,.5]. Конкретизация предмета анализа определяет круг изобразительно-выразительных
средства языка, применяемых в целях
репрезентации категории зла в поэме Мильтона «Потерянный рай».
Среди лексических средств достижения выразительности в поэме часто
встречаются примеры антитезы, когда противопоставление полярных ситуаций,
понятий усиливает воздействие
вышеперечисленных средств.
|
“And chiefly thou, O Spirit, that dost prefer
Before all temples th’ upright heart and pure, Instruct me, for thou know’st;
thou from the first Wast present, and, with mighty wings outspread, Dove-like
sat’st brooding on the vast Abyss, And mad’st it pregnant: what in me is dark
Illumine, what is low raise and support; That, to the height of this great argument, I may assert Eternal Providence, And justify the ways of God to men(1). Say first – for Heaven hides nothing from thy view, Nor the deep tract of Hell – say first what cause Moved our grand
parents, in that happy state, Favoured of Heaven so highly, to fall
off From their Creator, and transgress his will For one restraint, lords of the World besides. Who first seduced them to that
foul revolt?(2) Th’ infernal Serpent‹…›” [5, 2] |
“Но прежде ты, о
Дух Святой! – ты храмам Предпочитаешь
чистые сердца, – Наставь меня
всеведеньем твоим! Ты, словно голубь,
искони парил Над бездною,
плодотворя её; Исполни светом
тьму мою, возвысь Все бренное
во мне, дабы я смог Решающие доводы
найти И благость
Провиденья доказать, Пути Творца
пред тварью оправдав. Открой сначала, –
ибо Ад и Рай Равно доступны
взору Твоему, – Что побудило первую
чету, В счастливой
сени, средь блаженных кущ, Столь
взысканную милостью Небес, Предавших
Мирозданье ей во власть, Отречься от
Творца, Его запрет Единственный
нарушить? – Адский
Змий!” [6, 3] |
Этот пример интересен градацией антитезы: “свет и тьма, Ад и Рай, Творец и
тварь” – это, условно говоря, первая степень, когда противопоставляются
отдельные лексемы; причем здесь
переводчик выбрал замену нейтрального of “God to men” акцентированным “Творца пред тварью”.
“В
счастливой сени, средь блаженных кущ, Столь взысканную милостью Небес, Предавших
Мирозданье ей во власть – Отречься от Творца, Его запрет Единственный
нарушить?” Здесь наблюдается
противопоставление первой части фразы, содержащей радужную картину райского
бытия, её окончанию, контрастной по содержанию: этот прием усиливает ощущение
непоправимости содеянного «первой четой» (здесь, кроме прочего, мы имеем пример
перифразы: имена собственные Адам и Ева заменены оборотом “grand parents– первая чета.”
Аллюзия – стилистическая фигура, намек на
реальный литературный, исторический, политический факт, который предполагается
известным. В данном случае это упоминание мифа о саде Гесперид:
|
“Thus was this place A happy rural seat of various view; Groves whose rich trees wept odorous gums and balm, Others whose fruit, burnished with golden rind, Hung amiable, Hesperian fables true, If true, here only, and of delicious taste” [5, 38] |
“В душистых рощах
пышные стволы Сочат бальзам
пахучий и смолу, Подобные слезам, а
на других Деревьях
всевозможные плоды Пленяют золотистой
кожурой; И если миф о
Гесперидах – быль, То это – здесь,
и яблоки на вкус Отменны” [6, 30]. |
Миф о
Гесперидах, упоминаемый в данном фрагменте, − аллюзия на
сюжеты древнегреческих мифов о подвигах Геракла и Ясона. Геспериды – нимфы,
хранительницы золотых яблок в своем саду. Двенадцатым подвигом Геракла на службе у Эврисфея была его поездка к великому
титану Атласу, который держит на плечах небесный свод, с целью достать из его садов, за которыми смотрели
дочери Атласа геспериды, три золотых яблока.
Яблоки эти росли на золотом дереве, выращенном богиней земли Геей в подарок
великой Гере в день ее свадьбы с Зевсом. Возвышенно-приподнятый
стиль поэмы оправдывает частое использование гиперболы:
|
“At once, as far as Angels ken, he views The dismal situation waste and wild. A dungeon horrible, on all
sides round, As one great furnace flamed; yet from those flames No light; but rather darkness visible Served only to discover sights
of woe, Regions of sorrow, doleful shades, where peace And rest can never dwell, hope never comes That comes to all, but torture
without end Still urges, and a fiery deluge, fed With ever-burning sulphur unconsumed.” [5, 5] |
“Мгновенно, что лишь Ангелам дано, Он оглядел пустынную страну, Тюрьму, где, как в печи, пылал огонь, Но не светил и видимою тьмой Вернее был, мерцавший лишь затем, Дабы явить глазам кромешный мрак, Юдоль печали, царство горя, край, Где мира и покоя нет, куда Надежде, близкой всем, заказан путь, Где муки без конца и лютый жар Клокочущих, неистощимых струй Текучей серы.” [6, 2] |
Окказионализмы,
или индивидуально-авторские неологизмы, позволяют обогатить систему образных
средств текста:
|
“To whom th’ Arch-Enemy, And thence in Heaven called Satan, with bold words Breaking the horrid silence, thus began ‹…›[5, 4] |
“К нему воззвал
надменный Архивраг, Отныне наречённый
Сатаной, И страшное
беззвучие расторг Такими дерзновенными словами‹…› [5, 3] |
Частотность обращений к богу, дьяволу, а
также упоминание в речи ангелов, персонажей ада в контексте поэмы привело к
появлению целого ряда контекстных синонимов, например:
“– O Prince, O Chief of many Throned Powers,” “That led th' imbattelld Seraphim to WarrUnder thy conduct, and in dreadful deedsFearless, endanger'd Heav'ns perpetual King;And put to proof his high Supremacy,Whether upheld by strength, or Chance, or Fate,Too well I see and rue the dire event,That with sad overthrow and foul defeatHath lost us Heav'n, and all this mighty HostIn horrible destruction laid thus low,As far as Gods and Heav'nly EssencesCan Perish: for the mind and spirit remainsInvincible, and vigour soon returns,Though all our Glory extinct, and happy state
Here swallow'd up in endless misery.” [5, 6] |
– “О Князь! Глава порфироносных сил, Вождь Серафимских ратей боевых,” “Грозивших трону Вечного ЦаряДеяньями, внушающими страх,Дабы Его величье испытатьВерховное: хранимо ли оноСлучайностью ли, силой или Роком.Я вижу все и горько сокрушёнУжасным пораженьем наших войск.Мы изгнаны с высот, побеждены,Низвергнуты, насколько вообщеВозможно разгромить богоподобныхСынов Небес; но дух, но разум наш Не сломлены, а мощь вернётся вновь,Хоть славу нашу и былой восторгСтраданья поглотили навсегда.” [5, 4] |
Наиболее комплексный характер имеет метафора – скрытое сравнение, основанное на сходстве между далекими явлениями и предметами. В основе всякой метафоры лежит неназванное сравнение одних предметов с другими, имеющими общий признак [7, 154].
Посредством метафоры автор создает образ –
художественное представление о предметах, явлениях, которые он описывает, а
читатель понимает, на каком именно сходстве основана смысловая связь между
переносным и прямым значением слова. Эпитет, олицетворение, оксюморон, антитеза
могут рассматриваться как разновидность метафоры. В тексте поэмы преобладает развернутая метафора –
расширенное перенесение свойств одного предмета, явления или аспекта бытия на
другой по принципу сходства или по контрасту. Метафора отличается особой
экспрессивностью. При этом метафора обладает неограниченными возможностями в
сближении различных явлений, позволяет по-новому осмыслить внутреннюю сущность
предмета или явления. Метафора позволяет яснее выразить индивидуально-авторское
видение мира.
|
“Thus Satan, talking to his nearest mate, With head uplift above the wave, and eyes That sparkling blazed;
his other parts besides Prone on the flood, extended long and large, Lay floating many a rood, in bulk as huge As whom the fables name of monstrous size, Titanian or Earth-born,
that warred on Jove, Briareos or Typhon, whom the den By ancient Tarsus held, or that
sea-beast Leviathan, which God of all his works Created hugest that swim th’
ocean-stream. Him, haply slumbering on the Norway foam, The pilot of some small
night-foundered skiff, Deeming some island, oft, as seamen tell, With fixed anchor in his scaly rind, Moors by his side under the
lee, while night Invests the sea, and wished morn delays. So stretched out huge in length the Arch- fiend lay, Chained on the burning lake; ‹…›” [5, 9] |
“Приподнял он Над бездной голову;
его глаза Метали
искры; плыло позади Чудовищное тело, по
длине Титанам равное иль
Земнородным - Врагам Юпитера! Как
Бриарей, Сын Посейдона, или
как Тифон, В пещере обитавший,
возле Тарса, Как великан
морей – Левиафан, Когда вблизи
Норвежских берегов Он спит, а
запоздавший рулевой, Приняв его
за остров, меж чешуй Кидает
якорь, защитив ладью От ветра, и
стоит, пока заря Не
усмехнётся морю поутру, – Так Архивраг
разлёгся на волнах, Прикованный к
пучине.”
[5, 5] |
В
дальнейшем включение олицетворения “заря
усмехнётся”, эпитета “великан морей –Левиафан”, которые могут
рассматриваться как разновидность метафоры. Как
известно, оксюморон представляет собой сочетание контрастных по
значению слов, создающих новой понятие либо представление; зачастую это
соединение логически несовместимых понятий, резко прoтиворeчaщих
по смыслу и взaимнo исключaющих
друг дpуга. Этoт прием нaстраивает
читaтеля на вoспpиятие
пpотиворeчивых, слoжных
явлeний, нередко – бoрьбы противoполoжностeй.
“But what if he our Conquerour, (whom I now Of force believe Almighty, since no less Then such could hav orepow'rd such force as ours) ‹…›” |
“Зачем же Победитель (признаюЕго всесильным; ведь не мог бы ОнСлабейшей силой – нашу превозмочь!) ‹…›” |
Здесь оксюморон подчеркивает экспрессию борьбы,
битвы.
Одним из видов метафоры является олицетворение,
когда перенос признака осуществляется с живого предмета на неживой. В данном
случае олицетворение касается явлений природы, которые создают настроение
противостояния сил природы и армии Сатаны:
“The Sulphurous HailShot after us in storm, oreblown hath laid The fiery Surge, that from the Precipice Of Heav'n receiv'd us falling, and the Thunder, Wing'd with red Lightning and impetuous rage, Perhaps hath spent his shafts, and ceases now
To
bellow through the vast and boundless Deep.” [4, 5] |
“Палящий ураган и серный град,Нас бичевавшие, когда с вершинМы падали в клокочущий огонь,Иссякли. Молниями окрылённыйИ гневом яростным, разящий громОпустошил, как видно, свой колчан,Стихая постепенно, и уже
Не
так бушует.” [ 4, 5] |
В поэме
Джона Мильтона в достаточной мере
присутствует оценoчнaя лeксикa
– пpямaя
автopская oценкa сoбытий,
явлeний, пpeдмeтoв,
что обусловлено сюжетной линией поэмы:
“Let us not slip th' occasion, whether scorn, Or satiate fury yield it from our Foe. Seest thou yon dreary Plain, forlorn and wilde,The seat of desolation, voyd of light, Save what the glimmering of
these livid flames” [5, 6 ] |
“Упустить нельзяСчастливую возможность, что оставилВ насмешку или злобу утолив,Противник нам. Вот голый, гиблый край,Обитель скорби, где чуть-чуть сквозит, Мигая мёртвым светом в темноте,
Трепещущее пламя.” [ 5,6 ] |
Как
упоминалось выше, в тексте поэмы часто встречаются контекстные
синонимы, замещающие обращения, имена собственные; сходным приемом является
перифраз – использование описания вместо собственного имени или названия;
описательное выражение, оборот речи, замещающее слово. Используется для
украшения речи, замены повтора:
|
“This knows my Punisher; therefore as far From granting he, as I from
begging, peace; All hope excluded thus, behold, in stead Mankind created, and for him
this world. So farewell, hope; and with
hope farewell, fear; Farewell, remorse! all good to me is lost; Evil, be thou my good; by thee at least Divided empire with Heaven’s King I hold, By thee, and more than half perhaps will reign; As Man ere long, and
this new world, shall know.” [ 7, 9] |
“Не с дружбою по
имени зову Тебя; о нет! Зову,
чтоб изъяснить, Как ненавижу я твои
лучи, Напоминающие о
былом Величии, когда я
высоко Над солнечною
сферою сиял Во славе. Но,
гордыней обуян И честолюбьем
гибельным, дерзнул Восстать противу Горнего Царя Всесильного.” [ 7, 9] |
Cравнение представляет собой наиболее распространенное
средство выразительности языка, помогающее автору выражать свою точку зрения,
создавать целые художественные картины, давать описание предметов. Для
языка поэмы Мильтона характерны развернутые сравнения, т.е. сравнения-образы, и
развернутый параллелизм, вторая часть которого начинается следующим образом:
“And such appear'd in hue, as when the force Of subterranean wind transports a Hill Torn from PELORUS, or the shatter'd side Of thundring AETNA, whose combustible And fewel'd entrals thence conceiving Fire, Sublim'd with Mineral fury, aid the Winds, And leave a singed bottom all involv'd With stench and smoak: Such resting found the sole
Of unblest feet.” [ 4, 6 ] |
“Такой же почва принимает цвет, Когда подземный шторм срывает холмС вершин Пелора, или ребра скалГремящей Этны, чьё полно нутроОгнеопасных, взрывчатых веществ,И при посредстве минеральных сил,Наружу извергаемых из недрВоспламенёнными, а позади,Дымясь и тлея, остаётся дноСмердящее.” [4, 6 ] |
Цель
предпринята для полного анализа применения средств выразительности в поэме, что обусловлено их обилием;
зачастую в одном фрагменте совмещены несколько таких средств, как это было
отмечено выше. Проиллюстрируем этот
вывод на одном примере:
|
“He called so loud that all the hollow deep Of Hell resounded:–‘Princes, Potentates, Warriors, the Flower of
Heaven–once yours; now lost, If such astonishment as this can seize Eternal Spirits! Or have ye chosen this place After the toil of battle
to repose Your wearied virtue, for the ease you find To slumber here, as in the vales of Heaven? Or in this abject posture have ye sworn” To adore the Conqueror, who now beholds Cherub and Seraph
rolling in the flood With scattered arms and ensigns, till anon His swift pursuers from Heaven-gates discern Th’ advantage, and,
descending, tread us down Thus drooping, or with linked thunderbolts Transfix
us to the bottom of this gulf? Awake, arise, or be for ever fallen!’ They heard, and were abashed, and up they sprung Upon the wing, as when men wont to watch On duty, sleeping found by whom they dread, Rouse and bestir
themselves ere well awake. Nor did they not perceive the evil plight In which they were, or the
fierce pains not feel; Yet to their General’s voice they soon obeyed
Innumerable. As when the potent rod Of Amram’s son, in Egypt’s evil day, Waved round the coast, up-called a pitchy cloud Of locusts, warping on
the eastern wind, That o’er the realm of impious Pharaoh hung Like Night, and
darkened all the land of Nile; So numberless were those bad Angels seen Hovering on wing under the
cope of Hell, ‘Twixt upper, nether, and
surrounding fires; Till, as a signal given, th’ uplifted spear Of their great Sultan waving to direct Their course, in even balance down they light On the firm brimstone,
and fill all the plain: A multitude like which the populous North Poured never from her frozen loins to pass Rhene or the Danaw, when
her barbarous sons Came like a deluge on the South, and spread Beneath
Gibraltar to the Libyan sands. Forthwith, form every squadron and each band,
The heads and leaders thither haste where stood Their great Commander–godlike
Shapes, and Forms Excelling human; princely Dignities; And Powers that erst in Heaven sat on thrones, Though on their names
in Heavenly records now Be no memorial, blotted out and rased By their rebellion from the Books of Life.” [5, 14] |
“Так, потрясённые, бунтовщики Лежали грудами, но Вождь вскричал, И гулким громом отозвался Ад: "– Князья! Воители! Недавний цвет Небес, теперь утраченных навек! Возможно ли эфирным существам Столь унывать? Ужели, утомясь Трудами ратными, решили вы В пылающей пучине опочить? Вы в райских долах, что ли, сладкий сон Вкушаете? Никак, вы поклялись Хваленье Победителю воздать Униженно? Взирает Он меж тем На Херувимов и на Серафимов, Низверженных с оружьем заодно Изломанным, с обрывками знамён! Иль ждёте вы, чтобы Его гонцы, Бессилье наше с Неба углядев, Накинулись и дротиками молний Ко дну Геенны пригвоздили нас? Восстаньте же, не то конец всему!" Сгорая от стыда, взлетели вмиг Бойцы. Так задремавший часовой Спросонья вздрагивает, услыхав Начальства строгий окрик. Сознавая Свои мученья и беду свою, Стряхнув оцепененье, Сатане Покорствуют несметные войска. Так, в чёрный день Египта, мощный жезл Вознёс Амрамов сын, и саранча, Которую пригнал восточный ветр, Нависла тучей, мрачною, как
ночь, Над грешной Фараоновой землёй И затемнила Нильскую страну; Не меньшей тучей воспарила рать Под своды адские, сквозь пламена, Её лизавшие со всех сторон. Но вот копьём Владыка подал знак, И плавно опускаются полки На серу отверделую, покрыв Равнину сплошь. Из чресел ледяных Не извергал тысячелюдный Север Подобных толп, когда его сыны, Дунай и Рейн минуя, как потоп Неудержимый, наводнили Юг, За Гибралтар и до песков Ливийских! Начальники выходят из рядов Своих дружин; они к Вождю спешат, Блистая богоравной красотой, С людскою — несравнимой. Довелось Им на небесных тронах восседать, А ныне — в райских списках ни следа Имён смутьянов, что презрели долг, Из Книги Жизни вымарав себя.” [5, 8] |
В одном этом фрагменте можно выделить такие
лексико-стилистические средства выразительности: – метафоры: Flower of Heaven
/цвет Небес; the Book of Life/
Книга Жизни;
–контекстные синонимы: the Conqueror/победитель;
Sultan /владыка; Commander /вождь;
–развернутые сравнения: “Like Night, and darkened all the land of Nile
/ “Нависла тучей, мрачною, как ночь; North Poured her frozen loins /из чресел ледяных не извергал тысячелюдный
Север;” –интертекстуализмы:
“Amram’s son
Амрамов сын” –
аллюзия на родословную библейских персонажей, в частности, Моисея. А. П.
Лопухин в книге «Толковая Библия или комментарий на все книги Священного
Писания Ветхого и Нового Заветов» приходит к выводу, что Амрам и его жена
Иохаведа родили сыновей Аарона, Моисея и дочь Мариам [8].
Таким
образом, средства выразительности в поэме применяются в комплексе, сочетаясь
одно с другим и дополняя друг друга; при этом цель автора – достичь наиболее
яркого отражения идеи поэмы средствами стилистики. По утверждению А. А. Аникст,
«англичане в первую очередь ценят Мильтона за поэтичность, за ритмичность и
музыкальность стиха, за героический пафос и ораторскую патетику» [4, с. 18]. Очевидно, носители других языков также
выделяют эти качества, придающие экспрессию тексту поэмы, а ключевую позицию в их реализации занимают
именно лексико-стилистические приемы и средства.
Литература.
1
Самарин,
Р. М. Творчество Джона Мильтона [Текст] / Р. М. Самарин. – Ижевск, 2009. – 488
с.
2
Бабенко,
Л. Г. Лингвистический анализ художественного текста [Текст] / Л. Г. Бабенко,
И. Е. Васильев, Ю. В. Казарин.– Екатеринбург, 2010.– 452 с.
3
Есин,
А. Б. Принципы и приемы анализа литературного произведения: Учебное пособие
[Текст] / А. Б. Есин. –М., 2008.– 342 с.
4
Аникст, А. А. Джон Мильтон: Вступительная статья
к поэме Дж. Мильтона «Потерянный рай» [Текст] / А. А. Аникст // Мильтон Дж. Потерянный рай. М.: Художественная литература,
1976.– С. 5–20.
5
Milton, J. Paradise Lost [Еlectronic resource]. − URL: //www.planetpdf.com.
6
Мильтон,
Дж. Потерянный рай [Электронный ресурс] / Дж. Мильтон //100 лучших книг всех
времен. – Режим доступа: www.100bestbooks.ru
7
Левин, Ю. Д. История русской переводной художественной
литературы. СПб.: Издательство «Дмитрий Буланин», 2006.– Т. 2. – 452 с.
8
Лопухин,
А. П. Толковая Библия или комментарий на все книги Священного Писания Ветхого и
Нового Заветов [Электронный ресурс] / А. П. Лопухин.− Редим доступа:
http://lib.eparhia-saratov.ru/books/11l/lopuhin/lopuhin5/55.html
9
Третьякова,
А. Перевод в диахронии (на материале
разновременных переводов поэмы Дж. Мильтона «Потерянный рай») [Электронный
ресурс] / А. Третьякова // Научная библиотека Киберленинка. – Режим доступа: http://cyberleninka.ru.
.